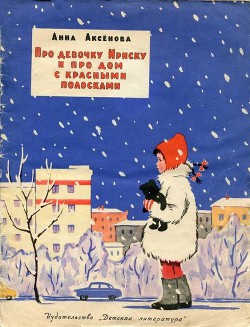class="p1">— Что бы оставить ночевать, — сказал Егор Сидорович.
— Я же предлагала мальчику, не слышал?
— Ясно, что он один, без матери, без Виктора, не останется.
— А куда бы мы их положили? На пол?
— Хоть бы и на пол, никто бы не обиделся.
— Сколько раз говорила — надо второй диван купить, — сказала она, как будто от Егора Сидоровича зависело, купить или не купить диван.
Несколько минут прошло в молчании, но, так как Егор Сидорович не начинал разговора, Вера Николаевна сказала сама:
— Мальчик неплохой.
Егор Сидорович слишком уж горячо поддержал:
— Мальчишка — золото. Весь вечер за ним смотрел. Свой-то еще неизвестно какой будет. А этот — хорош, слов нет.
— В общем, готовенький лучше? — съехидничала Вера Николаевна.
— Иногда и лучше: по крайней мере видишь, что берешь.
Для трудных раздумий у Веры Николаевны была особая привычка: она плотно закрывала двери, обматывала тряпкой звонок, садилась в кресло и ставила ноги в таз с горячей водой. Она считала, что кровь спускается к ногам и голова становится холодной и ясной, и тогда можно здраво смотреть на вещи, не прибегая ни к чьим советам.
Дня через два после гостей — она работала во вторую смену — Вера Николаевна села в кресло, поставив ноги в таз с водой, и стала думать.
Вчера из окна коридора поликлиники она случайно увидела Виктора с Ольгой. Видно, шли из магазина. Он тащил в одной руке сетку с картошкой, в другой — бутылку с молоком. Идет и вроде еще гордится, что картошку эту проклятую для нее тащит. Не подозревает, что для матери это ножом по сердцу…
А в тот раз, когда они у них в гостях были?.. Всю жизнь свою она отдала Егору, за всю жизнь ни о ком другом не подумала, а он ни разу так на нее не взглянул, как на Ольгу, ни разу так не смеялся, как при ней. Он не бабник, она знает, спокойна, тут что-то другое. Но что?
Даже окаянный Мурза, которого она семь лет поит-кормит, и тот вдруг стал ластиться к чужому человеку. Что он в ней такого почувствовал, в этой Ольге? Что понял в ней своим темным кошачьим нутром? Что ощутил? A-а, вот в этом все и дело — ощутил! Пожалуй, словами не скажешь, что в ней такого. Это просто ощущается. Это дар такой.
Тут хоть расшибись, разбейся, а ничего не добьешься. А Ольге стоит рукой махнуть — все готовы плясать перед ней, даже кот.
Рукой взмахнет… вон как вчера в прихожей. Провела рукой по лбу Виктора, едва коснулась, а у него сразу лицо как у блаженного. Стоял нахмуренный, боялся, что ли, что мать что-то не так скажет на прощание, и сразу засиял.
Минутку, минутку… значит, так было: Ольга, не прерывая разговора, даже не глядя на Виктора, поняла, что́ с ним, и он обрадовался, что она поняла. Ему неважно, что она не видит, как обтрепался у него воротничок на рубашке, надо перелицовывать. Это только мать заметила.
Но зато опять, когда он пошел к дверям, она — Ольга — взглянула на него, и он тут же вернулся, поцеловал мать.
Тогда Вера Николаевна просто удивилась — у них не приняты были такие нежности. А сейчас вот все вспомнила — и взгляды ее, и как подчинился он ей.
Все мужчины подчиняются своим женам, мужчины ведь что дети, но чтобы так вот — с радостью!
Умри Ольга — и Виктор будет несчастен.
Умри она — и Егору будет всего лишь трудно, неудобно жить.
Откуда она взяла, откуда взяли люди, что путь к сердцу мужчины ведет через его желудок и штопаные носки? Нашла она этот путь? Что она знает про своего Егора? Ну вот хотя бы… хотя бы какой цвет он любит? Вчера Ваня закричал: «Мама, твой любимый — малиновый!» — это когда ей чашка малиновая досталась. А какой у Егора любимый цвет? Синий, зеленый? А он, знает ли он ее любимый цвет? Впрочем… какой в самом деле у нее любимый? Серый. Нет, голубой. Да, пожалуй, голубой. То, что надо капусты в этом году побольше заквасить, потому что цены на рынке взбесились, — об этом она Егору говорила. Что пора пружины в кровати подремонтировать, чтоб узнал, нет ли на заводе умельца, — тоже говорила… А вот что она гитару слышать не может: сердце переворачивается — покойного отца напоминает, — говорила ли ему когда? Что ей иногда приходит в голову блажь — волосы распустить да и ходить так, русалкой, целый день, — говорила?
Нет, лучше не думать, а то додумаешься до того, что все их двадцать пять лет вроде как Мурзе под хвост.
Вера Николаевна спохватилась, что держит ноги в давно остывшей воде. Какие там ясные мысли!
— У нее родные-то есть? — спросила она у Виктора, когда он на другой день забежал за шахматами.
— Ты про Ольгу спрашиваешь? — холодно переспросил он.
— Конечно, про кого же еще.
— Так бы и говорила, что про Ольгу. Мать у нее, отец, два брата.
— И как они на тебя смотрят?
— Как они могут смотреть? Каждому ясно, что я для Ольги не находка. Молчат.
— То есть как молчат? Не разговаривают, что ли? — встрепенулась Вера Николаевна.
— Почему не разговаривают? Разговаривают. Просто не того они ждали для дочери:
— Интересно, какого же они принца ждали? — возмутилась Вера Николаевна.
— Принца не принца… скорее короля. Посолиднее то есть.
И не удержал счастливой улыбки.
— Мне и самому все не верится, что Оля моя жена.
— Нечего принижать себя, — вскипела Вера Николаевна, — ты и не такую мог найти.
— Вот именно, не такую, — подтвердил Виктор. — Такой больше нет.
Пока он рылся в своем секретере, Вера Николаевна громыхала на кухне. Господи, да что же это такое? Почему так несправедливо устроена жизнь? Тут стараешься, из кожи лезешь…
Она опомнилась, когда вода из крана стала переливаться из кастрюли на пол, брызнула на ноги.
Вера Николаевна завернула туго-натуго кран, вытерла руки полотенцем и решительно пошла к Виктору.
— Вот что… Раз уж вы все равно женаты, живите здесь. Нечего людей смешить.
— Если ты из-за людей… — сказал непримиримо Виктор.
Ну что с ним делать?! На каком языке говорить, чтоб они понимали ее?
— Вспомнишь меня, когда собственные детки вот так вот разговаривать с тобой будут, когда хлебнешь с ними горюшка… — Голос у Веры Николаевны невольно дрогнул.
— Да ладно, мать, — пробурчал Виктор, — я ведь ничего, я понимаю.
— Понимаешь ты, как же, —
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)